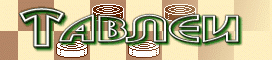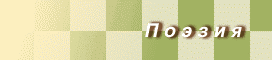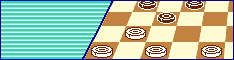ВОЛШЕБНОЕ ЗЕРКАЛО
ВОЛШЕБНОЕ ЗЕРКАЛО

Дмитрий ПСУРЦЕВ
 - 4 -
- 4 -

Не слишком многочисленна, но тем не менее заслуживает внимания и любовная лирика Н.Тряпкина, обладающая, как все, что выходит из-под его пера, неповторимой интонацией. Например, вот в этом стихотворении любовь предстает настоящим колдовством, в ее сказочном, фантастическом, магическом круге мир, природа в буквальном смысле превращается; я не припомню такого превращения, такой интонации у других современных поэтов:
 * * *
* * *

Снеговая метель-хлопотушка.
Не на курьих ли ножках стоит
У тебя твоя вдовья избушка?
Ни двора, ни крыльца, ни сеней.
Только снег, что бельмо, на окошке.
Да на крыше концы у жердей -
Как у ведьмы надбровные рожки.
Да сермягой обитая дверь,
Да за вьюгой – ни зги в переулке...
Уж не ты ли тут скачешь теперь
На какой-то подмазанной втулке?
Только ворон – кричи не кричи,
Да и ты не страшна мне, колдунья,
И всю ночь мы с тобой на печи
Да под шубкой твоей да под куньей.
Пусть грохочут в лесах буреломы.
В нас такие пылают дрова,
Что сгорят все другие хоромы.
Только ночь, да крутель, да сверчок,
Только волчья грызня за избою,
Да заглохшая дверь – на крючок,
Да сиянье твое надо мною.
И всю ночь, как шальная, летит
Грозовая под нами подушка,
И с питьем недопитым стоит
За трубою волшебная кружка.
(1970)
Глубинное чувствование природы, столь свойственное народно-поэтическому мироощущению, питает вдохновение поэта; но вдохновение это отливается у Тряпкина в две различные формы. Первая – форма непосредственной спонтанной лиричности, когда стих столь же непосредственно импрессионистичен, сколь и впечатление, его породившее:
"Летят снежинки с ветвей в кустах
Застыл подлесок в седых махрах.
Бела, как заяц, ушла метель,
В перчатках белых осталась ель."
(1953) ,
или:
Только жалобный крик журавлей...
Поклонюсь одинокой рябине,
Погрущу среди сжатых полей." ,
– больше свойственна раннему периоду творчества. Со временем же на страницах сборников Николая Тряпкина все чаще появляются стихотворения, где изображение природы принимает иную форму – философской и слегка мистичной метафизики, когда попытка слиянности с природой приобщает человека к миру тайн, не поддающихся рациональному познанию, и человек оказывается участником живого, творимого мифа. Это, безусловно, одно из оригинальных явлений нашей современной поэзии:
Каких не сыщешь наяву,
И слушал вздохи колдовские
И рвал нездешнюю траву.
И зарывался в мох косматый,
В духмяный морок, в дымный сон,
И был ни сватом и ни братом –
Жилец бог весть каких времен.
И бормотали, как волхвы.
Но где, когда, в каком пределе -
Всю память вон из головы.
< ... >"
(1956)
или:
Где там ели проскрипели?
Чей там шепот, чей там крик?
Разгадать бы травный шелест,
Положить на свой язык!
Побеждая темный прах,
Знал я тайны первородной
Детский запах на губах."
("Припадаю к темным норам...", 1960)
Нередко сей миф окрашивается в тона мрачноватой таинственности, так что сразу вспоминаются некоторые страшные сказки из афанасьевских сборников, или гоголевский Вий. Поэт, воспевший уют, лад внутренней жизни (“Я свято чту фамильное родство / И души предков грею у печурки”), не боится выйти за порог, в иное, холодновато-неуютное измерение, лишь бы изведать тайн:
Подземные духи! Пустите меня.
Стучусь обушком.
Я буду там зорче всевластного дня
В наитье любом.
В напевах любых.
Пустите меня за дремучий плетень
Владений своих.”
("Заклятье", 1966)
Или:
Чу, бубенцы!
Скачет ли свадьба с веселыми сватами?
Див ли стенит про какие-то смуты нам?
Звон ли росы?”
("Что там за вытнами?..", 1969)
Или:
Скорей же пристройся на дымном пороге!..
Да что же там шепчут овинные боги -
У смеркшего дня?!
Какие там сны проводами пропеты -
У смеркшего дня?
< ... >"
("У смеркшего дня...", 1969)
Совсем уж космическим, вселенским холодом отдает от стихотворения "Будильник" (1981):
"< ... >
А за окнами пустыми – столько звездного огня!
Не оттуда ли послали звонконогого коня?
Не туда ли держит всадник на размеренных рысях?
Только цокают подковы. Только холод, только страх."
И все же поэт дает нам образцы и гармоничной, просветленной слиянности с природой, возьму на себя смелость сказать – не уступающие образцам классики. Такие стихи, как "Бабочка белая! Бабочка белая!.." (1960), или "Свет ты мой, робкий, таинственный свет..." (1969) – вписаны на скрижали лучшей русской лирики.
Неоднозначные отношения природы и цивилизации – вот еще одна "сквозная" тема, занимающая пытливый ум поэта. Поэт, сын своего времени, или вернее, своих времен, прошел разные этапы ее постижения. В молодости ему не чужд пафос "разведчиков" вселенной, идея пресловутого покорения природы. Он ставит человека выше природы, славит "красные вездеходы" ("Песнь о красных вездеходах", 1957):
"За неведомые своды,
В неизвестные восходы
Улетают вездеходы –
Все под красною звездой."
(Безвкусно? Пожалуй, да. Впрочем, в этом же стихотворении есть четыре прелестные, почти хлебниковские строчки, за которые многое можно простить:
"Жаворонки летят,
В колокольчики звенят.
Серебристый ключик света –
В синем ларчике").
В другом раннем стихотворении “Фауст” (1957) он оптимистично пишет:
На свет прорастают.
Все тайны
Прильнули к ногам...
в земле почивают.
А сказки –
Дарю малышам." ,
и склонен восхищаться – страшно сказать кем! – Мефистофилем. Позднее он уже восхищается величием природы, как бы приравнивая великана-человека к ней, хотя пока еще не сомневается в непогрешимости человека перед природой и в "благодушии" природы:
"Сколько веков я к порогу Земли прорубался!
Застили свет мне лесные дремучие стены.
Двери открылись. И путь прямо к звездам начался.
Дайте ж побыть на последней черте Ойкумены!"
(1961)
Однако c годами масштаб восприятия меняется, становится более соразмерным (1981):
"Гудит Океан, и горящие копья богов
Проносятся в долы –
И рушатся снова в кромешную пропасть веков
Земные престолы.
И снова ты, море, звенишь и сияешь, как Феб,
У каждой ограды,
И снова ты в трюмах проносишь мастику и хлеб
Для новой Эллады.
И заново светят для новых святилищ и вер
И солнце и луны,
И вот я опять пред тобою, как старый Гомер,
И вот мои струны..."
(Тема "античных" мотивов в творчестве Тряпкина сама по себе довольно интересна: с одной стороны, он призывает "проснуться на рубеже какой-то смутной веры", ощутить все заново, невзирая на авторитеты мировой культуры: "Пускай на полке у тебя – Гомеры и Вольтеры, / А ты впервые видишь дым пастушьего костра". С другой, это конечно лукавство – Гомеры на полке и, значит, вполне усвоены, и в этом сонаследовании мировой культуры и античности, в частности, он выступает продолжателем русских классических поэтов 19 века, восстанавливая и сберегая "античную традицию", нарушившуюся с концом серебрянного века.)
Но вернемся к теме взаимоотношений человека, цивилизации и природы. Тряпкин в какой-то момент начинает чувствовать, что терпение природы на пределе. Мефистофель, этот дьявол гордыни познания, уже более не восхищает поэта своей пролазливостью, ибо завел человека слишком далеко:
И ты в наш век – почтенный гражданин.
И под навесом райского шиповника
Ты гарбузом торгуешь, сукин сын.
И стал во всем с превышним наравне -
И даже сможет небо вечно синее
Поджарить, как яичницу, на пне."
(1966)
Или вот стихотворение 1968 года, классически-изысканного, даже немного стилизованного под Восток, с "восточными" повторами, но жесткого письма – со щемящей и неуютной современной мыслью о будущем, об ответственности цивилизации перед Высшим Судом; современность этого апокалиптического мироощущения подчеркнута тем, что вещи огромные показаны через призму наших смешноватых понятий (черную трубку Земля закурила; преисподний тол); разумеется, огромное от этого не становится менее огромным – лишь наша тщета становится более очевидной; и чаяние "иного глагола" – более пронзительным.
Где-то вон там, под крылом Азраила
Черную трубку Земля закурила,
Черной пургой замело кипарисы...
Горы стоят, как виденья столетий.
Скалы да гул преисподнего тола...
Знаю – вон там, среди снежных поветий,
Ждут сотворенья иного Глагола."
В "Курильской песне" (1982), с эпиграфом из Ф.Тютчева ("Когда пробьет последний час природы...") тревога за будущее человечества усиливается:
И проносятся грозные ИЛы,
Как в библейских громах Гавриилы,
И стрела корабельного крана
Замирает, как дуло нагана.
Над проклятьем виденья такого
И над миром взойдет одиноко
Только Божье скорбящее око?"
Своего рода "воспоминание о будущем", горькое предостережение, себе и потомкам, в стихотворении 1979 г.:
А верней – пронеслось!
И от прежних лесов только птичье крыло
Сохранить удалось.
Да под вечным стеклом.
А земля запропала в кромешном дыму -
И себя не найдем..."
Чтобы постичь свою истинную меру (меру созданного по образу и подобию Божию), человеку не нужно вступать в схватку с природой, противопоставлять себя ей. Он меньше природы, но занимает в мироздании особое место, благодаря способности творить. Эта мысль, это чувство прекрасно передано во многих стихотворениях Николая Тряпкина. "А на улице снег" (1968) – серьезный, возвышенный гимн сочетания человека, в момент творчества, с природой; поэт не стесняется торжественно и серьезно, нараспев (с многочисленными повторами и восклицательными знаками!) произнести простые слова, обретающие вдруг чарующую волшебную силу; снег, слеги и крыши, утопающие в снегу, весь внешний мир, утопающий в снегу, приникает к окнам, бережно обступает человека, находящегося в своем внутреннем мире, сокровенном уединении, в скиту, в глуши и в тиши (тоже простые сущностные слова!); человек принимает в себя этого внешнего мира ровно настолько, чтобы ощутить свою связь с природой и свою благословенную отдельность, способность к творчеству:
"А на улице снег, а на улице снег,
А на улице снег, снег.
Сколько вижу там крыш, сколько вижу там слег,
Запорошенных крыш, слег!
А в скиту моем глушь, а в скиту моем тишь,
А в скиту моем глушь, тишь,
Только шорох страниц, да запечная мышь,
Осторожная мышь, мышь...
< ... >
Затопляется печь, приближается ночь.
И смешаются – печь, ночь.
А в душе моей свет. А врази мои – прочь.
И тоска моя – прочь, прочь.
< ... >
А в кости моей – хруст. А на жердочке дрозд.
Ах, по жердочкам – дрозд, дрозд.
И слова мои – в рост. И страна моя – в рост.
И цветы мои – в рост, в рост.
< ... >"
Радостное чувство освобождения от господства обыденного, банального мира с его казавшимися незыблемыми, но на самом деле человеком же придуманными догмами, законами и условностями, чувство, столь необходимое для осознания себя художником, а может и просто человеком, – в замечательном раннем стихотворении "Рождение" (1958), которое можно считать поэтическим девизом Н.Тряпкина на многие годы (многие черты своей поэзии он верно ухватил, или даже предсказал уже тогда). Особенно мне нравится этот эллинский Феб, унаследованный из золотого 19 века русской поэзии, вольготно севший в красный угол русской избы, над которой “гуляет космос”, и расправививший “длань своей десницы” в не совсем понятном, но привлекательном по глубине языкового ощущения жесте:
В глухих пластах дремали воды.
И вот сверкнул желанный свет,
И сердце вскрикнуло: свобода!
Друзья мои! Да что со мной?
Гремят моря, сверкают дымы,
Гуляет космос над избой,
В душе поют легенды Рима.
Друзья! Друзья! Воскрес поэт,
И отвалилась тьмы колода.
И вот он слышит гул планет
Сквозь камертон громоотвода.
Изба богов – мое жилище,
И флюгер взмыл, как тот орел
Над олимпийским пепелищем.
И я кладу мой черный хлеб
На эти белые страницы.
И в красный угол севший Феб
Расправил длань своей десницы.
Призвал закат, призвал рассвет,
И все, что лучшего в природе,
И уравнял небесный цвет
С простым репьем на огороде.
< ... >"
Как и для многих художников, одной из важнейших сил, питающих творчество, для Н.Тряпкина является детство, "это неоценимое сокровище, этот ларчик воспоминаний” (Р.М.Рильке). Ощущение воспоминаний о детстве как особенного, экзистенциального материала, приближающего к разгадкам тайны бытия, присуще поэту с давних пор и присутствует во многих стихотворениях:
И песенка, пропетая когда-то!
Из риги дым, ползущий на гумно,
И мы в снопах – драчливые галчата...
И вдруг проснешься. Был ты или нет?
Играет кот с мышонком лунным в прятки.
А за окном – колючий лунный свет
И заморозком схваченные грядки.
За шорохом пустующего сада,
Петух поет – как будто слышишь зов
Из дальнего, невидимого града.
< ... >"
("Две элегии", 1960)
Но воспоминание воспоминанию рознь. Одно дело вызвать из памяти образ деда ("Деду", 1961), чтобы просто поговорить с ним о чем-то, еще даже не зная толком о чем, лишь чувствуя насущную потребность в разговоре, общении с предком:
"Зачем я в песне воскрешаю
Тебя мой трудный, сивый дед?
Вот снова образ твой хватаю,
А ты мелькнешь – и снова нет!"
И другое дело почувствовать, как под твоим пером материал воспоминаний, оживляемый и одушевляемый, преображается в целый мир, в созидаемый тобой миф, поначалу пока еще только для тебя самого:
И души предков грею у печурки,
И сам творю для сердца своего
Семейный миф – и с ним играю в жмурки.
И ты во мне, и я в тебе, как дома...
И потому в пристанище моем
Всегда готова свежая солома."
(1968)
И вот в какой-то миг этот новый мир, вызванный тобой в бытие, обретает значимость не только для тебя, но и для читателей, для потомков, начинает жить по своим законам, отдельной жизнью, – это и есть настоящее искусство. Долгие годы “вылеживались” в сердце поэта воспоминания о деревенском детстве, чтобы сложиться в 1982 г. в циклы “Гнездо моих отцов”, “Земля моих отцов”, “Земля моих песен” – возможно, самые лучшие и сокровенные песни Николая Тряпкина. Почти все они написаны характерным длиннострочным балладным размером, который впервые появляется у Тряпкина, кажется, в 1949 г., в “Песне о хлебе” (“Мы споем эту песню в просторах с хорошими днями...”):
"Прокатилось “ура”. И взлетают воскресные кепи.
На трибуне девчонка. Две шелковых русых волны.
Вот, по сути, сейчас и рождается песня о хлебе:
Перед нами вожак. Полеводка с медалью страны."
Итак, размер тот же, но какая же разница между стихами – разница длиной в жизнь!
"< ... >
И в густейшем укропе тонули все наши усадьбы,
И в пасхальных качелях звенели все наши дворы,
А по свежим снегам проносились веселые свадьбы,
И пестрели на санках дерюжные наши ковры.
До чего же давно прошумели все эти забавы!
И давно уже нет на земле деревеньки моей.
Там весною теперь зацветают покосные травы
И в густом ивняке запевает в ночи соловей.
Но живут в моем сердце все те перезвоны ржаные,
И луга, и стога, и задворки отцовской избы,
И могу повторить, что родился я в сердце России, -
Это так пригодилось для всей моей грешной судьбы."
(1982)
В этих поздних "детских" стихах обретается истинное, гармоническое соотношение масштаба личной судьбы, судьбы рода – и масштаба исторических событий; соотношение, бесконечно далекое от ложного гигантизма тем, от плакатности, часто свойственных советской поэзии, – но также далекое и от заумных степеней погружения в себя, нередко свойственных авангарду. Н.Тряпкин впускает в свою сокровенную песню, вызывает в бытие лишь то, что исторично-конкретно, осязаемо – и вместе абсолютно подлинно по чувству, освящено сердечной, душевной работой:
Какие сны для сердца пропадают!
И только смутный сон звенит, звенит
Из тех времен, что детством называют.
Младенчество! Загадочный туман!
Извечный зов несбывшегося хмеля!
Каким я был, когда отец Иван,
Наш сельский поп, святил меня в купели?
< ... >
А в горнице кудахчет вся родня:
Хлопочет бабка, рыскают сестренки,
И тетя крестна шлепает меня:
"Куда, сопляк, ухлопал сапожонки,"
Да где же вы? На улице лиь в доме?
Наверно, вас украли воробьи,
Когда я спал на солнышке в соломе...
И вижу я под мартовским окном
Солому ту, хвостатую, ржаную,
Она до крыши облегла весь дом,
Храня в сугреве душу избяную...
Пускай там шли гражданские бои,
Рубился мир во все свои печенки!
Но где же вы, те первые мои,
Пропавшие смешные сапожонки?"
("Первое воспоминание", 1982)
Но столь детски-частный ракурс истории вовсе не означает безмятежности и идиллии, вот краткая, но емкая и исторически достоверная формула причастности судьбы героя к смутным событиям эпохи:
"Колыбель мою качали голод, холод и война.
Руки матери сновали за отсевками зерна.
Бабка стлалась пред иконой. Дед под окнами стучал.
А родитель мой с Буденнным землю-волю защищал."
("Лепта", 1982)
Тема "защиты земли-воли" интересно, я бы сказал, захватывающе, продолжается в замечательном стихотворении "Встреча" (1982), окрашиваясь в тона, цвета былины, эпоса – и одновременно лишаясь идеологической окраски – победа экзистенции, констант истории над ее злободневными переменными (необходима полная цитация):
 ВСТРЕЧА
ВСТРЕЧА

И в таком золотом году!
Дед мой Филя парит, как сокол,
И притоптывает на ходу.
А вокруг меня скачет бабка
И все этак поет, поет:
"Вот теперя увидишь папку.
Поднимайся, гляди, идет!"
И маманя все выше, выше
Поднимает меня на руках, -
Целый клан за деревню вышел
Да при всех родовых гвоздях:
И дядья, и зятья, и тетки,
И все внуки, и все дедки,
Все старухи и все молодки,
Все собаки и все щенки!
А маманя все выше, выше
Поднимает меня на взлет.
Поднимаюсь – и вижу, слышу -
И вот снова гляжу: идет!
И поныне так четко вижу:
Он взошел на зеленый скат, -
Вот он, вот он, все ближе, ближе,
Мерным шагом идет солдат:
В конармейской длинной шинели,
Богатырский шлем со звездой,
И златые ремни скрипели,
И геройский эфес под рукой.
И не с громом сходится гром, -
То отец повстречался с сыном,
То расплакались сын с отцом.
И наверно – вот эта глина,
И наверно – вот этот гром
И рождают в веках былину,
Замешавшись людским огнем.
Не припомню, что дальше было,
Только чую в своей крови:
Вся земля ходуном ходила
От великой своей любви.
И сквозь тысячи Млечных светов
Проносился вселенский бал,
И гремело: "За власть советов!"
У истоков моих начал.
И как самый лучший избранник
Восседал я в красной парче,
И сосал я отцовский пряник
У отца на красном плече.
И кружился над миром сокол
У вселенной всей на виду...
Это было в таком далеком
И в таком золотом году!
Цвета, в которые окрашены здесь воспоминания – золотой, красный, с их совместной работой, с их контрапунктом – именно цвета былины, народного эпоса; "богатырский шлем со звездой", "златые ремни" (вряд ли такие на самом деле бывают), "геройский эфес", "красное плечо" – не из реалистического художественного обихода; и то, как построены планы, картинки – с одной стороны, воспроизводит детское зрение, с другой – это максимально обобщенное, синтетическое видение мастера, тряпкинский магический пост-реализм. Сокол – блистательный и завораживающий – кружащийся над этой сценой, над миром – сложный поэтический знак; что он – символ доблести и славы, или символ самой хищной истории, не знающей жалости?..
Еще один цвет, льющийся на нас со страниц этих баллад, – голубой, традиционно исполненный смысла в русской поэзии, достаточно вспомнить поэтов начала века. Это уже не былинный, а лирический цвет, заряженный символизмом поэтического преображения действительности в тонах светлой ностальгии, возвышенной, просветленной грусти, есенинский цвет былых молодых надежд. Да и без эпиграфа из Есенина не обошлось (впрочем, как и без золотого тряпкинского пятнышка – "златого клеверка"):
 ГОЛУБЕНЬ
ГОЛУБЕНЬ

Опять предо мною голубое поле...
С. Есенин
До чего же хорош денек!
Проезжаем обкошенным логом,
Выезжаем на изволок.
Из-под новой коляски нашей
Сыпанет водой иногда.
И на ней мы – вдвоем с папашей,
Как заправские господа.
Восседаем на той рессорке,
А дорога бежит в лесок,
И бубенчик в скороговорке -
Словно пеночки голосок.
Это было на самой чистой
Да на той ли моей заре.
Ах ты конь мой, конек рысистый -
Темны яблочки в серебре!
А нельзя ли тряхнуть уздою,
Чтоб дорога, как песнь плыла?
Ибо с нами – все голубое,
Вся земля в голубом была:
На заре – голубела зорька,
А в пути – голубел костерь.
И катилась наша рессорка
В голубеющий город Тверь.
Под мосточком – река Улюсь.
И звенела кругом молодая
Голубая Советская Русь.
Голубым дымком папироски
Так и пышет отцовский рот.
Голубой воротник матроски
На плечонках моих поет.
Восседаем на той рессорке,
А кругом – златой клеверок.
Хорошо бы на том пригорке
Закусить под ракиткой впрок!..
Это было на самой чистой
Да на той ли моей заре.
Ах ты конь мой, конек рысистый, -
Колокольчики в серебре.
Исполать же тебе, папаша!
Про тебя эта песня врет!
Голубела дорога наша,
И звенел у коляски ход.
И еще одно стихотворение этого круга, может быть, самое сокровенное, возвращающее поэта к наследственным началам его песни, к народному, родовому истоку поэтической судьбы:
 БАБКА
БАБКА

Мы с тобой на печи -
И сладки нам любые морозы,
И любая метель за стеной
Навевает блаженные сны.
Да к тому ж еще кот,
Без единой крупиночки прозы,
Между нами урчит
Про кошачьи свои старины.
Ну, а ты все поешь и поешь,
То ли сказки свои родовые,
То ли вирши духовные,
Коим не видно конца.
И плывут на меня до сих пор
Грозовые столетья былые,
И в глаза мои смотрит Судьба,
Не скрывая лица.
И уж если теперь
Мои песни хоть что-нибудь значат,
И уж если теперь я и сам
Хоть на что-то гожусь, -
Ах, всему тому корень
Тогда еще, бабушка, начат -
Там, у нас на печи,
По которой и нынче томлюсь.
(1982)
4. "Пускай придет он, вечно молодой..."
Таковы, на мой взгляд, сущностные особенности, составляющие поэзии Николая Тряпкина. Но конечно, многое осталось за пределами данного очерка, и это уже задача монографических исследований, ученых-литературоведов – составить подробную творческую биографию поэта, чье творческое наследие весьма обширно и неоднородно (более 20 сборников стихов), и затем наложить на нее продуманную жанрово-стилистическую сетку категорий, – с тем чтобы в конечном счете получить живую и подробную картину поэзии Тряпкина в развитии – и в неизменности сути. Данный же очерк – лишь первый подступ к этой задаче, и главное его достоинство, как мне кажется, в богатстве и репрезентативности цитат, призванных познакомить с поэзией Тряпкина как можно более широкую аудиторию.
Более 50 лет существуя, работая в России, движущейся странными, неисповедимыми путями истории, – существуя поодаль от официально-признанной советской поэзии и литературной суеты, спокойно идя своей непростой дорогой преемника и продолжателя дела великих наших поэтов, Николай Иванович Тряпкин самим долголетием таланта, такого русского и такого богатого по стилистическому диапазону, внес огромный вклад в сохранение нашего языкового самосознания: в стихах его, словно в заповеднике, где уцелевают и выживают редкие, в Красную книгу занесенные виды – травы, птицы, звери, – уцелело и передается следующим поколениям живое богатство форм языка и духа. Что сделаем мы, наследники, с этим богатством?..
"Пускай придет он – вечно молодой
Земли своей хозяин и наследник,
Придет сюда, на этот хутор мой,
Под эти кущи, в этот заповедник.
Пускай он взглянет на мои цветы
И скажет так, зажмурившись от света:
Что это, мол, не терем Калиты,
А уголок российского поэта."
Песни Николая Тряпкина, песенного летописца срединной России, вдохновленные любовью к России и вобравшие в себя все чувствования народа – от тяжкой думы до безудержного веселья, от надежд и упований до отчаяния, – своеобразный слепок народного сознания. Это наше счастье, что родился и был с нами все это время такой художник; ибо значительная часть жизни, со всеми обольщениями и разочарованиями эпохи, или даже нескольких эпох, и с воспоминаниями об эпохах былых, – отразилась в волшебном зеркале его стиха, отразилась отнюдь не безмятежно, – так что заглянувши в него, мы можем лучше понять себя, свои пути, и задуматься о грядущем.
Вместо послесловия :
"Ты стоишь, моя хорошая, у пламенных стремнин..."
В заключение хотелось бы привести одно необычное, квинт-эссенциальное стихотворение, где в небольшом объеме воплощены, синтезированы вместе сразу все типы тряпкинской поэтики – лирический, фольклорно-эпический и мистико-метафизический; они сливаются здесь воедино – и дают то максимальное, уникальное насыщение образности, когда образ становится даже не "символом", а "мифом" (в терминологии А.Ф.Лосева):
 ТОЛЬКО НА ПЛЕЧИ НАКИНУЛА
ТОЛЬКО НА ПЛЕЧИ НАКИНУЛА

Да с кружевом платок.
Только жилочка запрыгала,
Застукала в висок.
Только белые горошины
Да с красна рукава.
Только шутки-скоморошины -
Затейные слова.
Заплясали скоморошины,
Запели на устах.
Ты стоишь моя хорошая,
Взвиваясь на носках.
Зацвели твои подмосточки,
Как радуга-дуга.
Заиграли твои косточки,
Застукала нога.
А над миром, там, проносятся
Густые сквозняки.
И под вихрями уносятся
Ночные маяки,
Улетают и скрываются,
Как факелы впотьмах,
Только молнии свиваются
На грозных облаках.
Запели в серебре.
Ты стоишь, моя хорошая,
На огненной горе.
Только страху не выказывай
И в голос не кричи.
Ты играй себе, рассказывай,
Подковкою стучи.
Зацвели твои подмосточки,
Как радуга-дуга.
Ах вы, девочки-подросточки,
Весенние луга!
Ты стоишь, моя хорошая,
У пламенных стремнин,
А в носках твоих – подброшенный
Цветочек розмарин.
(1981)
Это плясовая, сомненья нет, ритм говорит сам за себя. Но вот кто же плясунья, которой возносится столь вещая хвала? Почему она стоит "на огненной горе", "у пламенных стремнин", почему подмосточки ее "зацвели как радуга-дуга", и что она должна рассказать миру своим плясом? Наконец, чего она боится, отчего хочет кричать в голос, и почему важно этого не делать, а "играть себе, рассказывать, подковкою стучать"?
Мне кажется, ответ здесь в том, что русский миф, русский мир продолжается – вопреки неким вещам, но и благодаря неким другим вещам, и поэзия Тряпкина – из этих вторых вещей; таинственная плясунья (хотя может, она, имеет и конкретный человеческий прообраз) – Россия! – переселяется волею поэта на космические подмостки мирозданья; и весь этот бесстрашно-беззащитный танец, в окружении тьмы и грозных стихий – есть исполнение высшего предназначения, и обещание будущего – только не надо изменять себе, своему предназначению, не надо бояться...
Текст статьи Д.Псурцева "Волшебное зеркало" печатается по публикации на сайте "Национальные образы мира" (с подзаголовком "интернет-журнал, независимая территория творчества"), вот ссылка на 1-ю страницу.
© Данная статья также была опубликована в № 20/1999 газеты "Литература" издательского дома "Первое сентября". Все права принадлежат автору и издателю и охраняются.
Об авторе:
Псурцев Дмитрий Владимирович (род. 1960 г.), поэт и переводчик.
Выпускник Московского инъяза (1982) (ныне МГЛУ), сейчас работает там на кафедре перевода английского языка.
Специалист в области художественного перевода (в его переводе выходили произведения Дж.Стейнбека, Дж.Олдриджа, Д.Г.Лоуренса, Д.Томаса, Л.Ф.Баума и др.).
Автор книг стихов “Ex Roma Tertia”, “Тенгизская тетрадь” (Изд-во Елены Пахомовой, 2001).