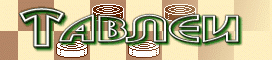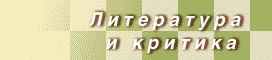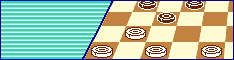Открываем гоголевский раздел критической статьей Александра Кирилловича ЯНГАЛОВА, который себя именует астрономом-гоголеведом...

|
Строгая критика Гоголя
Глава из книги
1.
И творчество, и судьба, и сама личность Николая Васильевича Гоголя нам, поклонникам его таланта, все еще во многом непонятны, несмотря на прошедшие наполненные значительными и чрезвычайными событиями годы, несмотря на то, что опубликованы многочисленные воспоминания о Гоголе, его обширная переписка, умело и с любовью составленные своды различных документов и свидетельств, позволяющие прояснить в его жизни и творчестве очень многое[1] и, наконец, несмотря на то, что у нас имеются главные свидетельства о мастере — его произведения.
Еще в гимназии однокашники звали Гоголя таинственным Карлой, и многое в его поведении и характере казалось им странным и несообразным.
Некоторые поступки зрелого Гоголя, уже широко известного писателя, вызывают крайнее недоумение у его друзей и знакомых и могут быть охарактеризованы как весьма своеобразные.
Уход Гоголя из жизни столь необычен, что до сих пор возбуждает разные слухи и сплетни.
Один из самых близких друзей Гоголя, С.Т.Аксаков, который чрезвычайно боялся мертвецов, через два дня после его смерти с удивлением отмечает: «Вот до какой степени Гоголь для меня не человек, что ... я, постоянно боявшийся до сих пор несколько ночей после смерти каждого знакомого человека, не мог произвести в себе этого чувства во всю последнюю ночь!»[2].
Удивление И.С.Тургенева перед Гоголем столь велико, что само слово человек в отношении Гоголя ему кажется менее подходящим, чем неопределенно-загадочное слово существо: «умное, и странное, и больное существо»[3].
Сам Гоголь прекрасно отдавал себе отчет в том, как его воспринимают окружающие. Еще будучи воспитанником Нежинской гимназии высших наук он так сообщает матери о своей «загадочности»: «... я почитаюсь загадкою для всех; никто не разгадал меня совершенно. У вас почитают меня своенравным, каким-то несносным педантом, думающим, что он умнее всех, что он создан на другой лад от людей. Верите ли, что я внутренне сам смеялся над собою вместе с вами? Здесь меня называют смиренником, идеалом кротости и терпения. В одном месте я самый тихий, скромный, учтивый, в другом — угрюмый, задумчивый, неотесанный и проч., в третьем болтлив и докучлив до чрезвычайности, у иных умен, у других глуп»[4]. Удивительно, но слова 18-летнего юноши применимы и в отношении всей его последующей жизни.
Гоголь труден в понимании не только своей личности и судьбы, но критикой до сих пор не предложены удовлетворительные, непротиворечивые толкования его произведений. Не определено однозначно даже литературное направление, к которому можно было бы отнести творчество писателя.
Реалистический критик В.Г.Белинский, сделавший много для общественного признания таланта Гоголя, – видит в нем ярчайшего представителя критического реализма, социальной критики, сатиры на самодержавие и основателя натуральной школы[5] (натурализма, т.е. крайней степени реализма). Белинский убежден в том, что «в искусстве не должно быть ничего темного и непонятного»[6] и поэтому ставит Гоголя в пример делавшему тогда первые шаги в большой литературе Достоевскому за «натуральность ... как верное воспроизведение действительности»[7]. Выход в свет «Выбранных мест из переписки с друзьями», которые, по мнению Гоголя, должны были наконец раскрыть публике глаза на подлинный смысл его произведений, вместо этого был воспринят Белинским, полагавшим, что ему в Гоголе все ясно и понятно, как измена своему первоначальному направлению. Именно к Белинскому восходит долгие годы господствовавшее в литературоведении мнение о двух периодах в творчестве Гоголя: первом – реалистическом и демократическом и втором – религиозно-мистическом. Отсюда берут свое начало и позднейшие мнения о приискании Гоголем нового смысла для своих произведений в связи с приобретением новых убеждений и отказом от прежних.
Символист А.Блок в своем не предназначенном для посторонних глаз дневнике негодует, что из-за всяких там белинских (взятых как типическое явление во множественном числе – А.Я.) даже такой художник, как он, был введен в заблуждение относительно «сатиры» Гоголя: «Пришли Белинские и сказали, что Грибоедов и Гоголь "осмеяли"». «До того обо...ли это слово (:сатира – А.Я.), что что после них художники вплоть до меня способны обманываться, думая о "бичевании нравов"»[8].
2.
Символист А.Белый не берется отрицать реализм Гоголя и его близкую и далекую песню* оставляет без разъяснений: «Я не знаю, кто Гоголь: реалист, символист, романтик или классик». Он вообще не считает Гоголя подходящим объектом для определений: «Гоголь гений, к которому вовсе не подойдешь со школьным определением; следственно, мне легче видеть черты символизма Гоголя, романтик увидит в нем романтика, реалист - реалиста»[9].
Маханальному** же символисту Розанову В.В. легче видеть черта. Он определяет Гоголя легко и непринужденно: «этот бес», «оборотень проклятый», «нечистый» или «Гоголь – черт сам!» Розанов всерьез полагает, что Гоголь и русская литература, пошедшая по его стопам, виноваты в русской смуте начала ХХ века***. «Собственно, никакого сомнения; что Россию убила литература»[10]. Он подозревает, что гении русской литературы десятилетиями работали на Берлинский Генеральный Штаб. И им следовало поэтому вовремя «дать по морде, как навонявшему в комнате конюху»†[11] - именно так, к примеру, собирался дискутировать Розанов с Николаем Григорьевиче솆 Чернышевским.
С несколько нерешительным недержанием, но Розанов не жалеет для Гоголя и последнего слова: «Я не решусь удержаться выговорить последнее слово: идиот!»[12] Отделывая покойного гения последними словами, на которые тот, натурально, не нашелся, чтобы возразить, эротоман Розанов отбрасывает к чертям всякие символические экивоки: «Поразительная яркость кисти везде, где он говорит о покойниках. ... Я и думаю, что половая тайна Гоголя находилась где-то тут, в «прекрасном упокойном мире». ... Поразительно, что ведь ни одного мужского покойника не описал. ... Он вывел целый пансион покойниц – и не старух (ни одной), а все молоденьких и хорошеньких»[13]. Сие суждение Розанова весьма с порно. Розанову здесь, как творческому работнику, досадно, что, изображая (по его мнению) лишь молоденьких и хорошеньких покойниц, Гоголь чертовски ограничивает полет его (Розанова) творческого воображения. Нет бы Гоголю ярко описать еще и молоденьких и стареньких мужских покойников, мертвых несимпатичных старушек и т.д., и т.п.
Впрочем, Розанов с ужасным языковым скрежетом признает, что у него «мало окончательного "ключа"». Это, тем не менее, позволяет ему чувствовать себя хозяином положения, поскольку у разгильдяя Гоголя ключей от себя никогда и не было: «При бесспорной искренности его творений, к которым мы так мало имеем окончательного "ключа", остается думать, что Гоголь принадлежал к тем редким, мятущимся и странным натурам, которые и сами не имеют от себя "ключа"»†††[14]. В известной работе Н.Фрая «Анатомия критики», рассматривающей основоположения литературной критики (конечно же, безотносительно к Розанову) сказаны следующие подходящие к данному случаю слова: «Аксиомой критики должно быть то, что поэт не может (прямо – А.Я.) говорить о том, что он знает, а не то, что он не знает, о чем говорит»[15].
Имел ли «ключа» когда-либо от чего-либо неколебимый Розанов, становится ясно из представленного на всеобщее обозрение «Уединенного»: «Из безвестности приходят наши мысли и уходят в безвестность. Первое: как ни сядешь, чтобы написать то-то, — сядешь и напишешь совсем другое. Между "я хочу сесть" и "я сел" — прошла одна минута. Откуда же эти совсем другие мысли на новую тему, чем с какими я ходил по комнате, и даже садился, чтобы их именно записать...» Кое-какие известия, впрочем, откуда мыслителю Розанову приходили мысли о Гоголе, пытливый читатель все же может сыскать: «Мамочка†††† не выносила Гоголя и говорила своим твердым и коротким: — Ненавижу!»[16]. В.Д.Бусягина ненавидела смех вообще. Розанов возвел эту ненависть в канон - «канон мамочки».
* «Самая родная, нам близкая, очаровывающая душу и все же далекая, все еще не ясная для нас песня - песня Гоголя».
** Меткое определение, данное Розанову Н.К.Михайловским.
*** Будучи человеком цельным и твердым в убеждениях, Розанов никогда не боялся противоречить самому себе и утверждал также, что русская литература после Гоголя была его отрицанием.
† Конечно, мысль о том, не возникла ли гражданская война из очевидного для него и таких же розановых сравнительного оборота, Розанова не посещала. Как не посещала и мысль о том, что, несмотря на свойственную тому привычку к грубой и умеренной пище, от ананасов и рябчиков конюх не отказался бы.
Вражеский агент Белинский по этому поводу семьюдесятью годами ранее: «Презрение к низшим сословиям в наше время отнюдь не есть порок высших сословий; напротив, это болезнь выскочек, порождение невежества, грубости чувств и понятий» (в ст. "Взгляд на русскую литературу 1847 года", ПСС, т.10, с.299).
†† У Розанова именно так.
††† Склоняя à la manière de Розанофф: иметь домика в деревне и мотоцикла.
†††† Так в дневниках Розанов называет свою вторую жену, В.Д.Бусягину (урожд. Рудневу).
3.
Метафорически-грамматическая дичь, что «ключа» желательно иметь много и окончательного*, произвела впечатление в среде гоголеведов и была уважительно истолкована так, что у Розанова, следовательно, много начинательного «ключа», который (или которого??) тот имеет сам и не доверяет никому, даже Гоголю. Расхрабрившиеся после розановских «бесстыдства и наглости»** исследователи стали добавлять полового начала в свои продолжательные писания все более и более щедро, совершенно не учуяв, однако, что Розанов, вступив на троп войны с Гоголем, вляпался***. Николая Васильевича после Розанова стало модным объявлять во всеуслышание бесключным – бестолковым, безыдейным, почти что невменяемым (на «идиота», однако, наглости и бесстыдства достало только Розанову).
Так, А.М.Ремизов считает, что объяснять бестолковый внутренний мир «редкой, мятущейся и странной натуры» ниже его достоинства: «Мир Гоголя – это сумятица, слепой туман, бестолковщина, тина мелочей. И вот изволь "объяснять" по природе необъяснимую и перепутанную чепуху. Мысли идут по зацепкам наперекор и мимо логической целесообразности: сцепление суждений и образов неожиданно. ... Все совершается без "потому" и уж никак непредвиденно. ... Поверхностное может быть объяснено, но глубже трудно понять. Всякое "потому что" упирается в воздушную пустоту и последнее "почему" или случайно произошло, как пересечение лучей, или самопроизвольное "вдруг"»[17].
«Абсурд был любимой музой Гоголя»[18] и по мнению великого литературного мастера В.В.Набокова. Он полагает, что Гоголь, как и всякий истинно великий писатель, неспособен изобразить что-нибудь идейное, но зато феноменально умеет показывать язык†: «Его произведения, как и всякая великая литература, это феномен языка††, а не идей»[19]. По мнению Владимира Владимировича, даже если Гоголю и удавалось предъявить в своих произведениях что-нибудь кроме языка, ему, «редкому, мятущемуся, странному», увы, не во всех случаях удавалось как следует разобраться в написанном. Ведь «Гоголь, будучи Гоголем и существуя в зеркальном мире, обладал способностью тщательно планировать свои произведения после того, как он их написал и опубликовал. Этот метод он применил и к "Ревизору"», случай с которым Набоков характеризует не просто как «редкий» и «странный», но уже и невероятный: «перед нами невероятный случай: полнейшее непонимание писателем своего собственного произведения»[20]. Опять на ум приходит фраевская аксиома. Может быть, Владимир Владимирович недооценил вероятность полнейшего непонимания мастером партии гроссмейстера?
Тем же макаром, что и «Ревизор», Гоголь, по мнению Набокова, писал второй том «Мертвых душ» — «а именно подчинив книгу определенной задаче, которая отсутствовала в первой части, а теперь, казалось, не только стала движущей силой, но и первой части сообщала задним числом необходимый смысл»[21]. Очевидно, что Набоков для личности Гоголя кроме розановского «ключа» пытается использовать еще и ключ К.В.Мочульского: если у Розанова смысл в его понятие Гоголя вообще не включен («идиот», «лишенный всякого разума и всякого смысла»), то у Набокова Гоголь в каких-то случаях бывает крепок задним числом. Десятилетием ранее Набокова (в 1934 г.) К.В.Мочульский ту же мысль выразил с оттенком хирургически-юридическим, с подобающей случаю латынью: Гоголю «нужно связать две половинки своей личности и деятельности, и он вступает на скользкий путь мотивировки post factum»[22]. Располовинил же личность и деятельность Гоголя, как установлено выше, лично Виссарион Григорьевич Белинский.
Душком розановской дичи отдают и рассуждения о Гоголе философа Н.А.Бердяева, под очевидным влиянием Розанова много размышлявшего о влиянии русской литературы на общественные процессы в России. Но у Бердяева, как и у Набокова, с розановскими «бесстыдством и наглостью» отношения все же неблизкие, и «расчленение» здесь, к счастью, он имеет в виду сугубо литературно-аналитическое: «Гоголь принадлежит к самым загадочным русским писателям, и еще мало сделано для его познания. ...Гоголь ... скрывал себя и унес с собой в могилу какую-то неразгаданную тайну. ... Впервые почувствовал жуткость Гоголя ... В.В.Розанов. ... Гоголя было принято считать основателем реалистического направления в русском искусстве. ... Художественные приемы Гоголя, которые менее всего могут названы реалистическими и представляют своеобразный эксперимент, расчленяющий и распластовывающий органически-целостную действительность. ... Гоголь, как художник, предвосхитил новейшие аналитические течения в искусстве»[23].
* Я уже не говорю о смысловой, более возвышенной дичи. Хотя, ежели кому охота поохотиться, то в дебрях розановской писанины дичи видимо-невидимо всевозможной - грамматической, стилистической, фактической, смысловой и т.д. Розанов, независимый в своем роде, пишет в «Апокалипсисе нашего времени»: «Заботится ли солнце о земле? Не из чего не видно: оно его "притягивает прямо пропорционально массе и обратно пропорционально квадратам расстояний". Таким образом, 1-й ответ о солнце и о земле Коперника был глуп. Просто - глуп. Он "сосчитал". Но "счет" в применении к нравственному явлению я нахожу просто глупым. Он просто ответил глупо, негодно. С этого глупого ответа Коперника на нравственный вопрос о планете и солнце началась пошлость планеты и опустошение Небес. "Конечно, - земля не имеет о себе заботы солнца, а только притягивается по кубам расстояний". Тьфу».
Как видим, Розанову что в Гоголя - раз плюнуть, что в русскую литературу, что в Коперника (а в его лице в лицо Ньютона и, предположительно, Кеплера) и так далее.
Широкоцитируемый, как далекоплюющий.
** «По содержанию литература русская есть такая мерзость, - такая мерзость бесстыдства и наглости, - как ни единая литература» (Розанов, «Апокалипсис нашего времени»).
*** От лат. lapsus
† Сам Набоков в своих изящных, неожиданно, но логично заканчивающихся литературных этюдах, эндшпилях и многоходовках с большим эффектом умеет предъявить читателю свой блестящий, утонченный язык. Language, разумеется: "His work, as all great literary achievements, is a phenomenon of language and not one of ideas".
†† Переиначивая идею Стефана Малларме, что не автор вертит языком, а язык автором. Из этого язычества модника Малларме, кстати, вся теперешняя почтовая мода, по-видимому, и происходит.
4.
Для сборника трудов отечественных гоголеведов «Гоголь: история и современность», посвященного 175-летию Гоголя, был подготовлен и обзор состояния зарубежного гоголеведения. К тому времени художественные приемы Гоголя причислялись исследователями уже не только к реализму, символизму, романтизму и классицизму (как это синкретично делал А.Белый), но и еще ко многим новейшим измам: «нет, кажется, значительного писателя из прошлого, вокруг которого скопилось бы столько "измов": футуризм, экспрессионизм, сюрреализм, абсурдизм»[24]. Сегодня, еще через пару десятилетий, измы продолжают копиться, и стилю Гоголя предоставлено почетное членство еще в нескольких измах и/или их сочетаниях.
Столь широкая принадлежность ко столь многим, часто взаимоисключающим литературным течениям означает, вероятно, что стиль Гоголя на самом деле не принадлежит ни к одному из них. Поэтому, в связи с длительным отсутствием успехов в понимании Гоголя критиками и уверенными утверждениями уважаемых в литературе лиц, что он, де, и сам-то себя не понимал, значительная часть гоголеведов, из старающихся не отставать от последней почтовой моды*, пришла ко мнению, что возможность смыслопорождения даже для плодовитого критика в таких обстоятельствах сомнительна**, а понимать в Гоголе следует, мол, не наличие, а отсутствие и пустоту.
Когда-то В.В.Набоков пояснил выбор молодым Гоголем псевдонима «ОООО» для публикации главы из исторического романа «Гетьман» следующим образом: «Выбор пустоты, да еще и умноженной вчетверо, чтобы скрыть свое "я", очень характерен для Гоголя»[25].
В воздушную пустоту, как мы увидели, уперся в своих поисках понимания Гоголя Ремизов.
«Гоголевская вселенная ... рождается в вакууме для отображения пустоты»[26], «рекуррентное отсутствие, встречающееся на стольких уровнях при решении задачи Гоголя, ... есть ее условие», — космологично и математично рассуждает и Д.Фэнгер[27].
Неудивительно, что несколько лет назад пустошители Гоголя, переделав недостаточно лаканичное на их вкус название книги влиятельного критика Р.Мэгвайра «Исследуя Гоголя»[28], проводят симпозиум под названием «Гoгoль: исследуя отсутствие»[29]. Доклады, сделанные на симпозиуме, посвящены соответственно отсутствию, пустоте и отрицанию (у) Гоголя, а на обложке сборника докладов красуется «Черный квадрат» Константина Малевича***.
Однако, авторитетное набоковское мнение о характерности выбора Гоголем пустоты, да еще и умноженной вчетверо, на которое, очевидно, опираются пустошители, по меньшей мере сомнительно. Отношение к себе, как к пустоте, едва ли приемлемо для какого бы то ни было молодого человека. Вряд ли молодой писатель Гоголь согласился бы с тем, чтобы пустопорожней пустопорожностью его считали другие, или, тем более, смиренно зачислял себя в нули сам. Наконец, это просто противоречит его собственным высказываниям, своей неожиданной самоуверенностью часто озадачивавшим знакомых и родственников. Псевдоним ОООО (четыре буквы О из Nicolaj V.Gogol-Jankowskij†) поэтому с точки зрения четырехотики должен означать, скорее, воклицание глубокого восхищения: О-О-О-О! Или, если произносить каждую гласную с сильным приступом, то восхищение получается довольно похожим на фамилию молодого человека: О-ГО-ГО-ГО! Особливо, коли Г трошки по-украиньски вымолвити.
Если же взглянуть в корень усматриваемой гоголевской отрицательности, то, с учетом очевидного, последовательного отрицания Гоголем отрицательного (посредством смеха), мнимость почтовомодной «пустоты» видна особенно отчетливо. Изучение пустоты, отсутствия и отрицания представляет, очевидно, не борьбу за поиски смысла в произведениях Гоголя††, а oooooooтику oкoлoгoгoлевoгo (переливание из пустого в отсутствующее), ведь смысла, если уж на то пошло, по мнению сторонников исследования пустоты и отсутствия, нет и быть не может ни у какого автора (особенно почтовомодно считать при этом, что и автора тоже нет[30]).
Диктуемую модой бессмысленность писательской писанины как таковой согласно почтовым модельерам должен преодолевать читатель, наделяя ее, писанину, произвольной индивидуальной осмысленностью (не без помощи модельеров, разумеется). Борьба с метафизикой теории и метода, однако, зашла сегодня в идеологии так далеко, что уже и сами модельеры-агностики, отрицающие возможность систематического знания и познания, попадают со своими деконструктивными методами в разряд семиотических тоталитариев. Проф. Гэри Сол Морсон, один из таких крайних критиков системности, логоцентризма и метафизики, предлагает означенным тоталитариям взяться за ум и заняться прозаическим собиранием «тины мелочей».
* Postmodern (нем.) – почтовомодный. Послание автора по сией моде, заведенной на сией почте, не должно сколько-нибудь определенно доходить до читателя.
И не доходит.
** С.Фуссо и П.Мейер во вводном обзоре к сборнику, посвященному творчеству Гоголя "Логос и русское слово", называют некоторых критиков, считающих, что творчество Гоголя ставит под сомнение саму природу интерпретации как смыслопорождающего процесса и всерьез полагающих, что некоторые произведения он сочинял с намерением поставить своего читателя в угол.
*** В указанном сборнике именно так (с.2 обл.).
† В указанном сборнике фамильно так (с.7).
†† Во вступлении к указанному сборнику: «наша борьба за понимание Гоголя» (our struggle to uderstand Gogol)!
5.
В особенности семиотический тоталитаризм свойствен, по мнению проф. Морсона русским, поскольку всем русским присуще стремление ставить всеобщие вопросы и находить к ним всеобъемлющие объяснения*. Обратную же и неотъемлемую сторону русского семиотического тоталитаризма представляет, с его точки зрения, русский нигилизм, т.е. радикальный скептицизм, признающий мир бессмыслицей, абсурдом. Современные западные подобия и/или наследники этих двух русских идейных течений, соответственно, структурализм и деконструктивизм/ постструктурализм. Николая Васильевича Гоголя проф. Морсон выявляет как основоположника радикального скептицизма в России, отрицателя смысла и полагателя бессмыслицы. Очевидно, это суждение Морсона непосредственно восходит к соответствующим мыслям о Гоголе Розанова, навеянным тому, в свою очередь, ненавидевшей смех «мамочкой». Отвергая философскую значимость содержания творчества Гоголя в посвященной его творчеству статье «Притчи Гоголя об истолковании: бессмыслица и прозаичность», Морсон возносит Николаю Васильевичу щедрую, но двусмысленную хвалу: «Гоголя с эстетической точки зрения следует признать одним из величайших, если не самым великим мастером бессмыслицы в истории мировой литературы»[31]. Он указывает на огромное различие между логогоцентричным, презирающим быт, бессмысленным объяснителем Гоголем и прозаическим бытописателем Толстым и заключает статью, двусмысленно назидая, что различие это можно узреть, обладая, «прежде всего, отчетливым видением заурядного»[32].
На что можно было бы не менее двусмысленно и ответить: оно и видно... Что до указанного различия, то Гоголь и Толстой для всякого семиотического тоталитария небезразличны и без посредства заурядности, не так ли? Но выпады эти были бы все же несправедливы по отношению к профессору, ибо следует признать, что тину тот собирает умело и классифицирует преизрядно, о чем еще будет сказано.
Между тем, многие авторы, благополучно существующие вопреки затронутой агностической теории-антитеории, во главу угла ставят агностическую загадочность окологоголевого, что и подчеркнуто в их заглавиях: «Загадка Гоголя»[33], «Загадка смерти Н.В.Гоголя», «Загадка "Прощальной повести"», «Загадочный Гоголь»[34] и т.д. Даже для тех, кто еще не владеет макроэкономическим диалектом в должной и кредитной мере, нет загадки в том, что слово разгадка на потребительский спрос повлияло бы менее удовлетворительно, сколь загадочным ни казалось бы это, с другой стороны, гражданину, покупающему книжки с целью приобретения образа человека разумного без дорогостоящей пластической операции. Употребление нагнетающих мистику слов в работах о Гоголе, связанное с непониманием творца и пониманием маркетинга, усугубляется с течением времени и со страниц рассчитанных на большой тираж книг проникает уже и в научную периодику. Например, в одной из недавних публикаций литературовед полагает, что «размышляя о Гоголе, будь то его личность, судьба или творчество», «уместно вспомнить» формулу Черчилля: «Загадка внутри головоломки, обернутая тайной», высказанную великим (и толстым) британцем в отношении России[35]. Кажется, не задействовано только еще какое-нибудь агностическое определение: непостижимая, неизъяснимая и т.п. Потемки, в которые забрело современное гоголеведение, лучше всего ощущаются в растерянном высказывании редактора сборника докладов конференции, посвященной творчеству Гоголя: «Странные трудности, [возникающие при толковании – А.Я.] гоголевских текстов, ставят под вопрос саму сущность толкования как такового. То ли при этом все еще не найден правильный набор вопросов, то ли неуместны и сами попытки такой постановки»[36].
Приехали. Тупик...
В итоге огромной проделанной гоголеведами работы выясняется всего лишь то, что Гоголь «был странным, больным человеком», это — «самый необычный поэт и прозаик, каких когда-либо рождала Россия» (В.Набоков)[37]; «одна из самых эксцентрических и причудливых фигур эпохи» (Р.Мэгвайр)[38]; «уникальный феномен», «возможно, самый экстраординарный гений-самородок, которого когда-либо знал мир» (А.Труайя)[39] и т.д. Он «продолжает сопротивляться какому-либо безоговорочному толкованию, а ключевые слова последних критических работ по Гоголю: "неуловимость", "загадка", "тайна", "головоломка"»[40].
Существует, однако, еще один большой отряд гоголеведов, которых, может быть, точнее называть гоголелогами. Отряд, идя по начертанному символистом Розановым курсу разгадывания половой тайны Гоголя, успешно преодолевает трудности, над которыми бьются прочие исследователи.
* Морсон поет totalitarissimo с чужого голоса - голоса семиотического тоталитария Бердяева: «Русским ... свойственна целостность, тоталитарность, как в мысли, так и в творчестве и в жизни» ("Истоки и смысл русского коммунизма").
6.
Истинное лицо человека, как известно, самый полоумный мыслитель З.Фрейд находил в трусах, а все его жизненные стремления считал подчиненными половому влечению — либидо. Соответственно, фрейдисты-символисты всякий огурец, единичку, палку, нос и т.п., встретившиеся в тексте, принимают за фаллос, когда же читают о пещере, футбольных воротах или нолике — им грезится вагина. Жизненные стремления фрейдистов просты и подчинены либидо: эти невоспитанные, разнузданные недоросли норовят накарябать либимое слово из шести букв на всех памятниках. На памятнике Гоголю гоголелоги также успели накарябать довольно много. Пионером в этом увлекательном и изощренном деле в 50-х годах прошлого века, по мнению С.Фуссо и П.Мейер[41], стал Хью Маклин*, в сравнении с которым И.Д.Ермаков, начавший занимавшийся этим еще в 20-е, кажется, по-видимому, лишь пугливым и неумелым октябренком (чертитель Розанов – тот уж вообще детский садо-мазо). Продолжая сравнение в духе Фуссо и Мейер, можно сказать, что подросшие бойскауты Кокс, Карлински и Ранкур-Лаферье достигли на постаменте памятника Гоголю новых высот.
То, до чего договорились, рассуждая о Гоголе, гоголелоги, а их за рубежом хватает, заслуживает отдельного подробного исследования в специальных медицинских изданиях, причем предметом исследования, очевидно, должен быть не Гоголь, а означенные гоголелоги и гоголеложество. Для пущей забавности в самом конце книжки я все-таки вставил довольно занимательный фрейдистский отрывок из творения одного заслуженного зарубежного автора, «касающийся» «Носа», с упованием на то, что дети до 16 лет, изучающие Гоголя, так далеко в литературоведении в наши времена не заходят.
* * *
Но, может быть, в отношении творчества Гоголя справедливо то, что высказал С.Т.Аксаков о знании Гоголя как человека (или о незнании, что в данном случае то же самое)? «Разные люди, знавшие Гоголя в разные эпохи его жизни, могли сообщить о нем друг другу разные известия. ... Но даже в одно и то же время ... с разными людьми Гоголь казался разным человеком. Тут не было никакого притворства: он соприкасался с ними теми нравственными сторонами, с которыми симпатизировали те люди или по крайней мере которые могли они понять. ... Кто не слыхал самих противуположных отзывов о Гоголе? Одни называли его забавным весельчаком, обходительным и ласковым; другие — молчаливым, угрюмым и даже гордым; третьи — занятым исключительно духовными предметами... Одним словом, Гоголя никто не знал вполне. Некоторые друзья и приятели, конечно, знали его хорошо; но знали, так сказать, по частям. Очевидно, что только соединение этих частей может составить целое, полное знание и определение Гоголя»[42]. Мнение С.Т.Аксакова, известного писателя и, в момент написания этих слов, человека в преклонных летах, очевидно, вполне согласно с тем, что 18-летний Гоголь написал о себе в письме матери.
Пытаясь получить полное знание и определение Гоголя по способу Сергея Тимофеевича, мы с изумлением отмечаем, что действительно, революционный демократ видит в Гоголе натурального борца с самодержавием; символист — символиста; обладатель изящного языка — языкастый феномен без понятия; чертовски вздорный брюзга — противного, мерзкого черта; борец с семиотическим тоталитаризмом — сочинителя чепухи; самоутверждающиеся подростки — своего в доску. Некоторые зрят отсутствие** ...
Налицо самый широкий плюрализм понимания Гоголя: один говорит – одно, другой другое, третий — что тот и сам-то себя не понимает, четвертый (чемпион по плевкам в высоту), что нечего тут и понимать, дать по морде, и вся недолга. Эдак не то, что понятие определить, но и составить себе сколько-нибудь непротиворечивое представление затруднительно. Наименее противоречивым по способу Аксакова, все же выглядит представление о Гоголе как о зеркале. Том самом. На которое неча пенять... Кстати, при таком наименее противоречивом представлении явно усматриваемые некоторыми исследователями Гоголя: некрофилия, гомосексуализм, импотенция, отсутствие и т.д., и т.п., оказываются, соответственно, самопровозглашаемыми неявными свойствами усмотрителей.
Итак, сострогав с непочтительных критиков Гоголя последнюю стружку вздора, чепухи и бессмыслицы, что же мы обнаруживаем? Пустоту, отсутствие, отрицание, да охапку пронумерованных стружек ...
Как известно, русскую литературу породил Виссарион Григорьевич Белинский, в первой опубликованной за своею подписью статье «Литературные мечтания» провозгласивший: «У нас нет литературы!»[43]*** (при живых и бодро творящих ее классиках), а в своих последующих статьях признававший уже и ее наличие, и несомненные достоинства. Напряженно вглядываясь в выстроганную нами пустоту сегодня, спустя 172 года после сего восклицания основоположника русской критики, мы, почитатели Гоголя, с приличествующей нам скромностию можем заключить:
* "an approach pioneered by Hugh McLean in 1950's".
** П.К.Ковалев: «Черт знает что, какая дрянь! ... Хотя бы уже что-нибудь было..., а то ничего!"
*** До Белинского эту же мысль высказывали также А.А.Марлинский, Д.В.Веневитинов, И.В.Киреевский, Н.И.Надеждин и Н.А.Полевой, но менее убедительно.
7.
|
|
23 сентября 2006 г.
Ссылки
1. См., например, Вересаев В. (1990) Гоголь в жизни
2. Аксаков С.Т. (1966) История моего знакомства с Гоголем. Собр. соч. т.3, с.375
3. Тургенев И.С. (1981) Гоголь. В кн. Статьи и воспоминания, с.193
4. Гоголь Н.В. (1994) Письма, Гоголь - матери, 1 марта 1828 г., из Нежина. Собр. соч. в 9 томах, т.9, с.22
5. Белинский В.Г. (1955) Петербургский сборник. ПСС, т. 9, с.544
6. Белинский В.Г. (1956) Взгляд на русскую литературу 1846 года. ПСС, т. 10, с.42
7. Белинский В.Г. (1956) Взгляд на русскую литературу 1847 года. ПСС, т. 10, с.291
8. Блок А.А. (1989) Дневник, с. 182
9. А.Белый (1994) Гоголь. В кн. Символизм как миропонимание, сс.361, 364, 365
10. Розанов В.В. (1990) Апокалипсис нашего времени. В Собр. соч., с.44
11. Розанов В.В. (1990) Опавшие листья. Короб второй, В Собр. соч., т.2, Уединенное, с. 587
12. Розанов В.В. (1990) Опавшие листья. Короб первый, В Собр. соч., т.2, Уединенное, с. 315
13. Там же, с. 597
14. Розанов В.В. (1995) Гоголь. В Собр. соч., О писательстве и писателях, с.122
15. Frye N. (1973) Anatomy of criticism, p.5
16. Розанов В.В. (1990) Опавшие листья. Короб второй, В Собр. соч., т.2, Уединенное, с. 534
17. Ремизов А.М. (1989) Огонь вещей, с.60
18. Набоков В.В. (1996) Николай Гоголь. В кн. Лекции по русской литературе, с.126
19. Там же, с.131
20. Там же, с.70
21. Там же, с.119
22. Мочульский К.В.(1995) Духовный путь Гоголя. В кн. Гоголь. Соловьев. Достоевский, с.40
23. Бердяев Н.А. (1993) Духи русской революции, Гл.II. В кн. О русских классиках.
24. Бибихин В.В., Гальцева Р.А., Роднянская И.Б. (1985) Литературная мысль Запада перед "загадкой Гоголя". В сборн. Гоголь: история и современность, с.431
25. Набоков В.В. (1996) Николай Гоголь. В кн. Лекции по русской литературе, с.49
26. Fanger D. (1979) The creation of Nikolai Gogol., с.262
27. Там же, p.18
28. Maguire R.A. (1994) Exploring Gogol
29. Gogol: Exploring absence (1999), ed. S.Spieker
30. Барт Р. (1989) Смерть автора. В кн. Избранные работы: Семиотика: Поэтика
31. Gary Morson (1994) Gogol's parables of explanation: nonsense and prosaics. In: Essays on Gogol. Logos and the Russian word, p.203
32. Там же, p.238
33. Peace R. (1981) The enigma of Gogol; An examination in writings of N.V.Gogol and their place in the Russian literature tradition
34. Милявский В.М. (1991) Загадка смерти Н.В.Гоголя
Барабаш Ю.Я. (1993) Загадка "Прощальной повести"
Гарин И.И. (2002) Загадочный Гоголь
35. Злочевская А. (2005) Вопр. лит. № 2, с.209
36. Fusso S., Meyer P. (1994) Introduction. In: Essays on Gogol. Logos and the Russian word, p.5
37. Набоков В.В. (1996) Николай Гоголь. В кн. Лекции по русской литературе, с.31, с.70
38. Maguire R.A. (1974 ) The legacy of criticism. In: Gogol from the twentieth century..., p.7
39. Труайа А. (2004) Николай Гоголь, с.634
40. Grayson J., Wigzell F. (1989) Introduction. In: Nicolai Gogol: Text and Context, p.xi
41. Fusso S., Meyer P. (1994) Introduction. In: Essays on Gogol. Logos and the Russian word, p.3
42. Аксаков С.Т. (1966) Несколько слов о биографии Гоголя. Собр. соч. т.4, с.148
43. Белинский В.Г. (1976) Литературные мечтания. ПСС, т. 1, с.22
Александр ЯНГАЛОВ
© 2006 А.К. Янгалов. Источник: https://www.jangalov.narod.ru/buki/strog/strog1.html