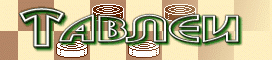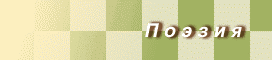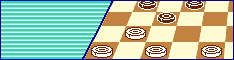ВОЛШЕБНОЕ ЗЕРКАЛО
ВОЛШЕБНОЕ ЗЕРКАЛО

Дмитрий ПСУРЦЕВ
 - 3 -
- 3 -

3. " И буду вновь стучаться в двери
К земному смыслу моему."
В 1970 г. в стихотворении "Стансы" Н.Тряпкин пишет:
Давно отпили, отлюбили,
Отгоревали, отцвели –
И стали горстью черной пыли
И затерялися в пыли.
И все держались за кастеты,
И в землю падали ничком.
А ты все так же, мать-планета,
Извечным крутишься волчком.
И вновь мы царства сокрушаем,
И снова пашем целину –
И все ж стоим над тем же краем,
У той же горести в плену.
И снова падаем, как ветки,
К подножью древа своего.
И не спасают нас ни предки,
Ни хмель, ни слава – ничего.
Мы песни петь не устаем
И славим каждый миг рожденья
И каждый солнышка подъем.
И перед космосом безмерным
Мы окрыленные стоим
И с той же гривенкой усердной
В калитку райскую стучим.
И только слезы утираем,
И ставим город на холму...
И никому не доверяем
Свою убогую суму.
2.
Да, никому я не доверю
Ни этот посох, ни суму.
И буду вновь стучаться в двери
К земному смыслу моему.
< ... >"
Стремление постичь смысл бытия, опознаться в истории и во Вселенной, найти в ней место – свое и своего народа – владеет тряпкинской музой не менее сильно, чем желание петь. И, как это свойственно русскому мироощущению, сложные, философские вопросы, волнующие разум, прежде всего пропускаются через сердце – и потом уж ложатся на музыкальный лад стиха. Слова "дума" или "думка", часто утребляемые поэтом – не случайны, они, собственно, и означают мысль сердечную, мысль, переходящую в чувство.
"Земляное" чувство Тряпкина тесно связано с чувством историческим. История и современность идут у поэта в едином потоке:
"Здесь прадед Святогор в скрижалях не старееет,
Зато и сам Христос не спорит с новизной.
И на лепных печах, ровесницах Кощея,
Колхозный календарь читает Домовой."
("Пижма", 1946).
Или: "И запоет веретено / Из-под скворечного радара." ("И закопается изба...", 1970). Или: "А мимо шли угрюмые, как Вии, / Скребучие колонны тягачей." ("Дорога", 1979). История современна
"Только знаю – парень ты без страха.
И давай – скажи без дураков:
Сколько весит шапка Мономаха
И во сколько сечен ты кнутов?"
– так по-свойски, чуть ли не как к соседу, обращается поэт к Григорию Отрепьеву ("Стихи о Гришке Отрепьеве", 1966). Современность же, напротив – исторична, причем касается это не только событий народной жизни, личная судьба естественно вплетается в этот исторический узор. Вот строки из стихотворения 1971 г., воспоминание военных лет:
Уносила меня из-под пуль.
А над нами высоко-высоко
Проплывал чернокрылый патруль.
Никому ничего не суля.
И пред ликом Бориса и Глеба
На колени бросалась земля".
Частная жизнь людей – также вплетена в некий узор, больший чем они сами:
"И все грустные наши свидания,
И все речи твои и мои
Зацветут в наших снах, как предания,
Запоют, как весной соловьи."
(1981)
("Предания" – часть истории, весенняя песнь соловья – часть вечной природы). Лирическое есть вместе эпическое.
В таких стихах, как "Пижма" (1946), "Исцеление Муромца" (1958), "Лесные загривки..." (1961), "Забытые вехи, заглохшие дали..." (1965), "За пылью ханского набега" (1965), "Скрип моей колыбели" (1966), "Степан" (1966), "Стихи о Гришке Отрепьеве" (1966), "Как у тех у ворот столько всяких бород" (1966), "Как сегодня над степью донецкой..." (1966), "Савелий Пижемский" (1966), "Девки бродят по вечерним скверам" (1967), "За церковкой старинной" (1968), "Что за купчики проезжали" (1968), "Притча о Ваньке-однолишнике" (1968), "Песня" (1970), "И снова дни, и снова годы..." (1971), "Не ведут пути окольные..." (1971), "В моем селе устроили музей" (1971), "Днем и ночью, снова днем и ночью..." (1971), "Песнь о хождении в край Палестинский" (1959 – 1973), "Старинные песни" (1973), "Не поляки, не свеи, не фрязи..." (1973), "Русь" (1973), "Предание" (1973), "Триптих" (1977), "Черная, заполярная..." (1978), "Среди лихой всемирной склоки..." (1982), "Ода к России" (1982) – и многих, многих других – напряженные думы о прошлом и настоящем России сплавлены воедино.
Поэт нередко спрашивает себя и своих современников, так ли мы поступаем, выдерживают ли наши поступки суд совести. И возникает, например, вот такая “Песня” (1972):
 ПЕСНЯ
ПЕСНЯ

Что ты знал, что ты стал? Что за время прожил?
Прошумели деньки, пронеслись годочки.
Вот сидишь у избы на своем пенечке.
Ах ты, сад, ты мой сад!.. Эх ты, мать честная!
Руки, ноги дрожат, голова седая.
Похитрил, помудрил, покрутился вволю…
Ни зубов, ни долгов!.. Правду ли глаголю?
Ах ты, дед Архимед! Человечек божий!
Мужичок-своячок, на меня похожий!
Сколько девок помял в закромах колхозных?
Сколько всяких дружков за столом прославил?
Сколько всяких кусков под скамью отправил?
Погулял, поскакал… Эх ты, мать честная!
Руки, ноги дрожат, голова седая.
Прошумели деньки, пронеслись годочки.
Вот сидишь у избы на своем пенечке.
И солидно кряхтишь, и глядишь достойно…
А в душе у меня что-то неспокойно.
[Мне эта песня известна под названием "Дед Архимед", исполняют Вадим и Валерий Мищуки. Интересно, что несмотря на период "перестройки", несколько строк в тексте песни пропущено: это строчки, начинающиеся со слов "Сколько..." - прим. вебмастера.]
Увы, обольщения и наивные надежды, которыми жила страна, не оправдались, утешаться можно разве что тем, что не первые мы ошибаемся:
А сколько добра красовалось на нем!
А сколько высоких речей раздалось!
А сколько веселых ковшей испилось!
И нашею солью – да нам же в глаза.
И мы повторяем забытый урок:
И жито забыто, и пиво не впрок...”
(1968)
Нераздельность и неизменная интенсивность этого исторического чувства и мысли ведет к поэтическому откровению. Наша история, особенно современная, страшна, трагична, распалась связь времен, и склеивать столетий позвонки поэт может лишь кровью – зачастую покаянною кровью – своей песни:
И не во мне ли от старых ран
Засохла смолка?
И в детской люльке стучал наган
Зубами волка.
И вот свалился весь дедов лес
В сухмень суглинка.
И не моя ли в костях древес
Засохла финка?
И только в строчках озноб луны
Заглох, как рыба.
И только вспомню снега Двины,
Да зной Турксиба.
А был ведь инок.
И в древнем царстве моих полян
Грохочет рынок.
И все суставы, за стыком стык,
Во мне что крючья.
И не поверил речной тростник
В мои созвучья.
И все составы на всех путях –
Как все суставы.
И все подметки мои в кровях
И в струпьях славы.
< ... >"
(1969)
Конечно, не только о себе лично говорит здесь поэт, но и о любом русском человеке. Сразу два Апокалипсиса в душе его: советско-исторический (струпья славы, брат на брата, сын на отца), и глобально-исторический (рушится под ударами цивилизации, новой безжалостной торговли, жестокой цивилизации, технологии – древний патриархальный мир) – здесь неизбежны параллели с "Сорокоустом" Сергея Есенина, с "Инонией". Поэт видит, как
" ... горит над городом
Атомный закат,
И стоит над городом
Атомный солдат...",
и понимает:
" ... в этом городе
С мэром заводным
Даже делать нечего
Песенкам моим".
Вообще, нужно заметить, что из всей есенинской поэзии Тряпкину всего ближе именно вот эта апокалиптичность мироощущения, ему дорог не только хрестоматийный Есенин – певец любви, природы, но и не слишком добрый "пророк Есенин Сергей".
Да и сам Тряпкин не пророк-дитя, невинностью постигающий тайны мира, а пророк знающий, ведающий причину бед людских. Параллель с Ветхозаветным Израилем, вернее, связь, прокладываемая творческой волей поэта от Ветхозаветной эпохи к нашим временам, кажется неприятной и неуютной, но что возразишь против жгучей правды этих строк, написанных в 1982 г., когда еще только начинал покачиваться наш колосс на глиняных ногах:
“Рыдайте же, старцы! И дщери Сиона, рыдайте!
Всю горечь свою из ладоней своих испивайте,
Всю печень свою, что, как яд, пролилась на каменья,
И стали мы нынче добычей господнего мщенья.”
За что же уготована нам Божья кара? За неправедную жизнь, за жизнь в неправде и во зле:
Пускай же раздавят нас камни из божьих истоков
За наших фальшивых, тупых и продажных пророков,
За наших князей, что рождались из гноя и кала,
За наших детей, что плясали на стогнах Вааала!..”
(“Стенания у развалин Сиона”)
Одна из традиционных русских "пророческих" "масок" – маска юродивого, дурачка. Эту "маску" Николай Тряпкин примерял довольно часто, и вряд ли это можно считать случайностью. Так народное сознание, отображенное в сознании своего певца, реагирует на несправедливость, на жестокость земного устройства, земной власти, подразумевая, что в высшем смысле правда остается за дурачком, ибо он хоть и обижен, но не свыше; его стихи – ему награда; обижены свыше – бывают те, кто стяжает земные блага при жизни своей. Эти стихи, народные по духу, повествуют вместе с тем о конкретной личности, их авторе, перипетиях его судьбы (кстати, автором они исполняются именно как частушки, или попевки):
"Знать, жива еще планета,
Не погиб еще тот край,
Если сделался поэтом
Даже Тряпкин Николай." -
так, перефразируя Некрасова, начинает Тряпкин. Быть поэтом – призвание почетное, ведь Тряпкин Николай:
"Ходит прямо к богу в рай,
И господь ему за это
Отпускает каравай."
Но дурачок не настолько безобиден – он призывает гнев Божий на головы врагов; само слово "враги", употребленное автором, мягко скажем, не смиренно, – тем более что относится не к врагам-завоевателям, а к неким своим же согражданам, мешающим дурачковой песне. Впрочем, враги эти несчастные, в том смысле, что ничтожны против высшей воли. Да может быть, это даже и не люди, а некая собирательная враждебная категория, объединяющая всё – поступки людей и обстоятельства; загадочный гроб-сарай, куда их "упрячут" одновременно и страшен и смешон (вообще, "речевая характеристика" Бога (если можно так выразиться) – вполне земная, близкая к просторечной традиции, ведь излагает-то дурачок!):
"Отпускает каравай
И кричит: "Стихи давай!
А врагов твоих несчастных
Я упрячу в гроб-сарай.
И в твоем родном районе
Я скажу в любом дому:
Дескать, Тряпкин – в пантеоне,
Ставьте памятник ему."
Однако за заботу и попечение Господа дурачок должен платить высоким качеством своей поэтической работы, иначе его постигнет кара свыше, кара совести – и какая!
"Заходи почаще в рай.
Только песенки плохие
Ты смотри не издавай.
А не сделаешь такого,
Я скажу, мол: "Ах ты вошь!"
И к Сергею Михалкову
В домработники пойдешь."
("Стихи о Николае Тряпкине", 1973)
Недоброе веселье, злая язвительность играет в некоторых строках поэта, сознающего свой талант, но не избалованного вниманием прессы, критиков, не оцененного по заслугам, более того, не однажды "битого" идеологами от поэзии (получающими за это кличку "долбунов" – "Долбуны мои подохли", – сказано весьма сильно!):
В три ножа, в четыри гири,
А я скрылся как в могиле...
Где? Ответствую на спрос:
В той избушке-лесовушке,
На неведомой опушке,
У задворенки-старушки.
А всем прочим – дулю в нос.
< ... >
И в столице и в Тагиле.
А теперь меня забыли.
Что за прелесть! Как в раю!
Тропы гончие заглохли,
Раны старые засохли,
Долбуны мои подохли,
А я песенки пою.
("Меня били-колотили...", 1966)
Также как и для народа, для Тряпкина спасением от злости на жизнь нередко является юмор, ирония; способность узреть смешное, забавное в себе и в мире – и тем самым преодолеть зависимость от материальных оков мира:
Да и мы денечков не теряем
И живем с ремеслами пока:
До растеплин валенки валяем,
А в досуг валяем дурака.
У кого-то снег, у нас тут – снеги
(Хоть и знаем книжечки Барто),
Мы живем на самом хвойном бреге
И к лепешкам пресным – не того...
Загляните к нам в урочный миг:
Ой, стучим вальками – мать-старушка!
Поневоле свесится язык.
< ... >
У кого-то снег, у нас тут – снеги,
Мы живем в краю такой зимы,
Что умрут любые печенеги,
А смеяться будем только мы."
("Не скажу, что мир поблекший снимок...",
1966)
Противопоставление себя, своего местного мира миру больших городов и заморских стран – есть интересная, хотя и не бесспорная (с оттенком провинциальности) попытка самосознания, самоопределения. Будь интонация серьезной, эта попытка выглядела бы смешно; но смешна, самоиронична интонация (особенно прелестны "коты амбарные") – и попытка обретает значимость:
Пустыней завороженный.
А тут, у нас, сорочий есть базар,
За хвойною изложиной.
И ветры планетарные.
А тут, у нас, у риги, как всегда,
Снуют коты амбарные."
(1966)
Жизнь загадывает загадки, но и мы можем загадывать их, вернее говорить о жизни вроде бы несерьезно, с ухмылкой, шутовскими присказками, а на деле – куда уж серьезней:
То ли в горе, то ли в ссоре, то ли в славе
Изругались мы на каждой переправе.
< ... >
Загостились мы, землица, заигрались,
То ли богу, то ли стогу поклонялись.
То ли сыну, то ли батьке, то ли матке
Загадали мы заморские загадки.
А теперь бы нам к последям в рукавичку -
Ту ль веселую проказницу синичку.
Да и песенку последнюю б изладил:
То ли в горе, то ли в хворе, то ли в славе
Положил бы я головушку в канаве.
То ли в Каме, то ли в храме, то ли в клети,
То ли где-нибудь у мышки на повети."
("Загостился я, земля, в твоих долинах...",
1973)
Порою отчаяние, мысль о неспособности изменить безжалостный ход исторических событий настолько овладевает душой поэта, что полные самого мрачного пессимизма, ёрнические, черные строки выходят из-под его пера; хотя за внешней бесшабашностью – боль и ощущение утраты ориентиров. Такие стихи, как "Песня всемирных кастаньет" (1973) – важное свидетельство народного умонастроения в эпоху глухого застоя. Черные кости домино, забивание козла – символ равнодушия, оцепенения:
Земля пролетает сквозь бога и мать,
Сквозь бога и мать.
А мы-то с тобою? А нам что терять?
А нам что терять?
Айда, моя прелесть! Не плачь, не грусти.
Давай-ка монетку подкинем в горсти,
Подкинем в горсти!
Ни свадебных лилий, ни Пиковых дам,
Ни Пиковых дам.
А ну-тка поддай, старикашка Адам,
А ну-тка, Адам!
Ни бога, ни черта, ни прочих владык.
Земля пролетает сквозь грохот и рык.
Сквозь грохот и рык.
Что звон кастаньет.
Земля пролетает сквозь тысячи лет,
Космических лет.
Земля пролетает, а мы-то при чем?
Не рвется ли Время у нас за плечом?
У нас за плечом?
Горят гороскопы, а нам все равно,
А нам все равно.
Про все наши судьбы мы знаем давно.
Смекаем давно.
Ни сказок, ни песен, ни прочего зла.
Давайте, ребята, сыграем в козла.
Давайте в козла!"
Но все же именно прошлое, память народа, живая вода языка хранят спасение, нужно лишь вновь обрести в своей душе этот таинственный питающий источник, чтобы душевно возродиться; в этом же, 1973 г. поэт пишет "Предание":
Звенит струя незримого колодца!
Мы так его стараемся забыть -
И все-таки забыть не удается.
Он где-то в нас, под нашей тайной клетью.
Знать, так живуч смиренный сей жених -
Сей Аввакум двадцатого столетья!
< ... >"
Поэтическое слово самого Николая Тряпкина, несомненно, исходит именно из этого "незримого колодца". По его пером оживают, обретают непреходящую жизнь в языке самые разнородные вещи. От красочных бытовых зарисовок ("Колхозная новогодняя пирушка" (1948 – 1958), с ее эпиграфом из А.В.Кольцова и размашистой словесной живописью) – до славянско-языческих реконструкций, призванных помочь нам в нашей современной немощи – своей старинной жизнеутверждающей силой (стихи 70-х гг.: "Огнистая белка!..", “А я пойду опять к восходу…”, "Листья дубовые...", "Горячая полночь! Зацветшая рожь!...").
 * * *
* * *

Купальской росой окропите мой нож.
Я филином ухну, стрижом прокричу,
О камень громовый тот нож наточу.
Семь раз перепрыгну чрез жаркий костер -
И к древнему дубы приду на сугор.
Приду, поклонюсь и скажу: "Исполать!"
И крепче в ладони сожму рукоять,
И снова поклон перед ним положу -
И смаху весь ножик в него засажу.
И будет он там – глубоко, глубоко,
И брызнет оттуда, как гром, молоко.
Польется на злаки окрестных долин,
Покатится к Волге, Десне и на Сожь...
И вызреет в мире громовая рожь.
Поднимутся финн, костромич и помор,
И к нашему дубу придут на сугор.
А я из кувшина средь злаков густых
Гремящею пеной плесну и на них.
Умножатся роды, прибавится сил,
Засветятся камни у древних могил.
А я возле дуба, чтоб зря не скучать,
Зачну перепелкам на дудке играть.
(1971)
Загадки, поставленные нам живой историей нашей жизни и наших отцов, томительны, ждут ответа, решенья. В поисках отгадок поэт обращается к Книге книг, Библии, и прежде всего Ветхому завету, истории всех историй - здесь можно найти интересные параллели с современностью и, насытив свое видение современности ветхозаветными цветами, создать произведения яркие и глубокие. Возможно, первым подступом к этой сложной теме является небольшая композиция, поэтическая фреска, составленная из стихотворений 1970 – 1973 гг. с характерным названием "Песнь песней", однако в целом она как бы еще не выступает из обычного ряда тряпкинских стихов. Здесь есть попытка поставить вопросы в духе Экклезиаста, есть поиски особенного стиля, интонации:
"Рождение и Смерть! Начало и Конец!
Начало и Конец!
А между ними – Жизнь, Творенье и Творец.
Творенье и Творец.
О тайна среди тайн! Рождение и Смерть!
Рождение и Смерть!
Ты – Солнце или Шлак? Ты – Елка или Жердь?
Ты – Елка или Жердь?
И сам я среди вас – ростинка из зерна,
Ростинка из зерна:
Проклюнулся и нет! И снова целина,
И снова целина".
Но эти "вопросы вопросов" звучат, пожалуй, слишком риторично и декларативно; в других же стихотворениях-частях композиции в более привычном тряпкинском ключе говорится:
"Давно уж сгнили те кресты
Над прахом дедов.
И вот уж я у той черты,
Юдоль изведав." ,
или:
Искрошилось весло,
И склонилась шелюга
Над водой тяжело.
И пускай наши ветки
Снеговей унесет.
Призывают нас предки
Свой исполнить черед.
И в ночи не однажды
Выхожу на погост,
Принимаю всю тяжесть
Каменеющих звезд".
Два разных начала еще не слились здесь воедино, не дают синтеза, не дают современной "Песни песней", заявленной в заглавии.
Лишь в более поздних стихах (“ветхозаветные” циклы “Подражание Экклезиасту” и "Гласом царя Давида" и некоторые другие близкие к ним произведения 80-х гг.) поэт достигает нужного характеристик звучания, поднимает лирику на высоту эпоса. Псалмопевцем и мудрецом предстает наш с вами современник, но мудрецом далеко не бесстрастным:
Во всех углах, на всех путях земных -
И свет ума, и полный мрак незнанья,
И гибель добрых, и всевластье злых.
И видел я, как подлость торжествует,
И как неправда судит правоту,
И как жрецы за глупость голосуют
И тут же всласть целуют ей пяту.
И в знойный прах зарылся от стыда,
И под свистки холопского злоречья
К своим трудам ушел я навсегда.”
Древность и современность сливаются воедино, “извечные” интонации “царя Давида” подкрашиваются современной горечью и желчью наших дней, сознанием несовершенства человечества. Чувство богооставленности не дает нам покоя:
“Днем я сникал от жара, ночью страдал от стужи,
Стриг я твоих верблюдов, пас я твоих овец.
Что ж ты меня удавкой стягиваешь все туже,
Ты, сотворивший землю, Зодчий мой и отец?
< ... >
Я укрепляю дом свой лучшими городнями,
Градами и кремлями землю свою обвел.
Ты же в меня запускаешь огненными камнями,
Черными головнями целишься в мой котел.
Дай же мне объясненье – в чем же твоя обида?
Гласом царя Давида к высям вздымаю зов:
- Что же я – цвет творенья или я просто – гнида
С первого дня рожденья и до конца миров?
Что же ты мне отвечаешь ядерными громами
И во вселенской яме топчешь мои города?
Где же твоя десница, льющая мед над нами?
Или мое рожденье – миг твоего стыда.
Или твое проклятье – в горестной той колыбке,
Где ты меня младенцем бросил среди пустынь?
Что же я так взыскуюсь не за свои ошибки, -
То возгремит Гоморра, то возгорит Хатынь?..
Днем я сникал от жара, ночью страдал от стужи,
Стриг я твоих верблюдов, пас я твоих овец.
Что ж ты меня оставил в этой вселенской луже -
И зашвырнул в пространства грифель свой и резец?”
Особенное место даже среди этих стихов занимает, подлинным откровением звучит стихотворение "И снятся мне камни..." ("Новый мир", 1987). Его суть – страстное томление по непреходящей истине – вечной и будущей – посетившее человека в конце жизни, когда многие прежние "истины" вдруг оказались несостоятельными. Чувство это, горькое, отчасти побеждается светлым пафосом стиха, образами ковчега и Вифлеема. ...Жажда обновленья, жажда выйти за пределы жестокого (хоть и отмеченного поисками истины) круга русской истории – ее ветхозаветного круга, – и войти в круг Нового Завета, оказаться певцом на Новом Ковчеге, певцом тех, кто уже сегодня на этом новом пути... Но чего стоят вот эти две строчки, о каких безмерных для нас потерях напоминают – и какой кровью сердца русского человека, чей век почти совпадает с 20-м, должны были быть написаны они : "Да сгинет в пропасть любая новь, / Где мир утонул в крови!.."
 И СНЯТСЯ МНЕ КАМНИ...
И СНЯТСЯ МНЕ КАМНИ...

И вашего солнца зной.
И снится мне новый свой Арарат,
Что брезжит где-то вдали,
И снится мне новый свой Вифлеем,
И вижу: горит звезда!
Позвольте взойти мне на ваш ковчег
И с вами рыдать и петь.
Пускай это только сон.
Да будет проклята всякая явь,
Где только блюют и пьют!
Да сгинет в пропасть любая новь,
Где мир утонул в крови!..
Позвольте взойти мне на ваш ковчег –
И в тайный пуститься путь.